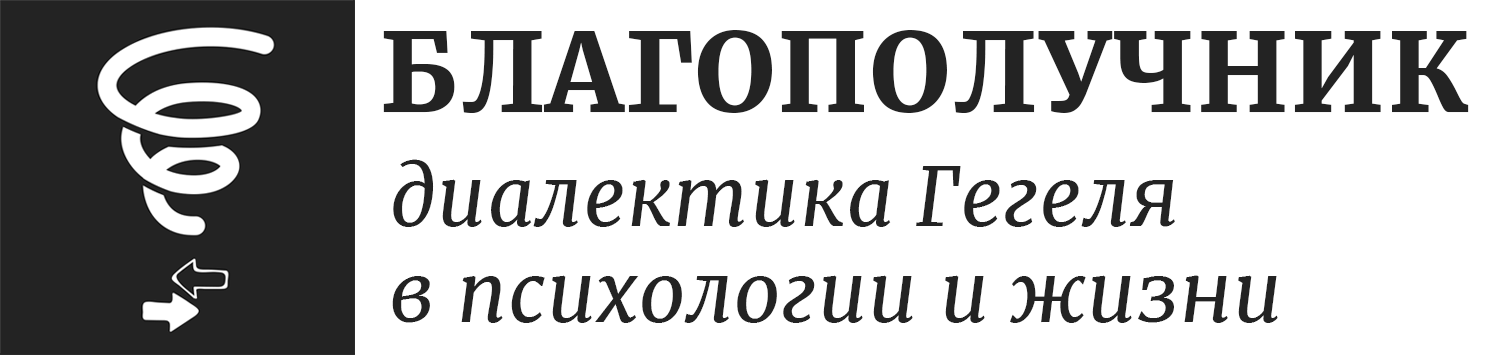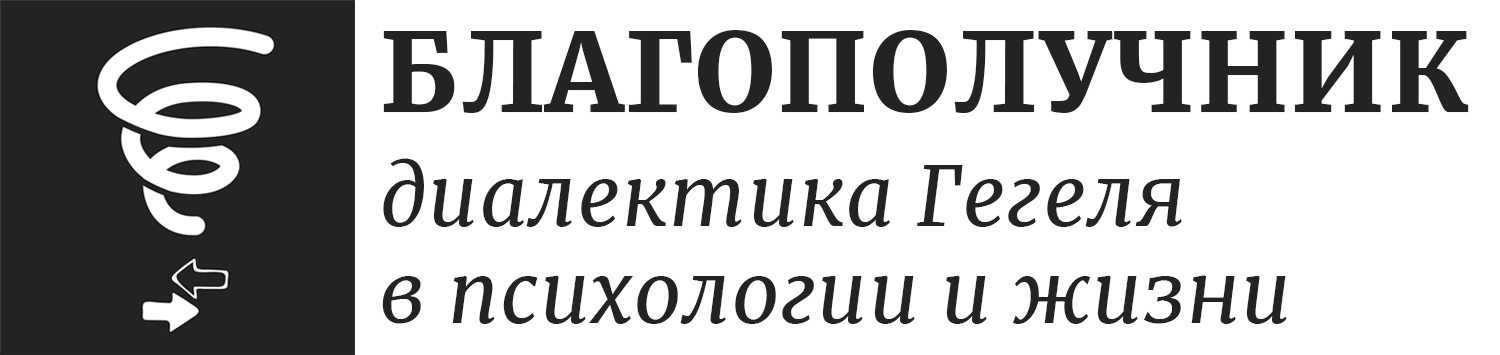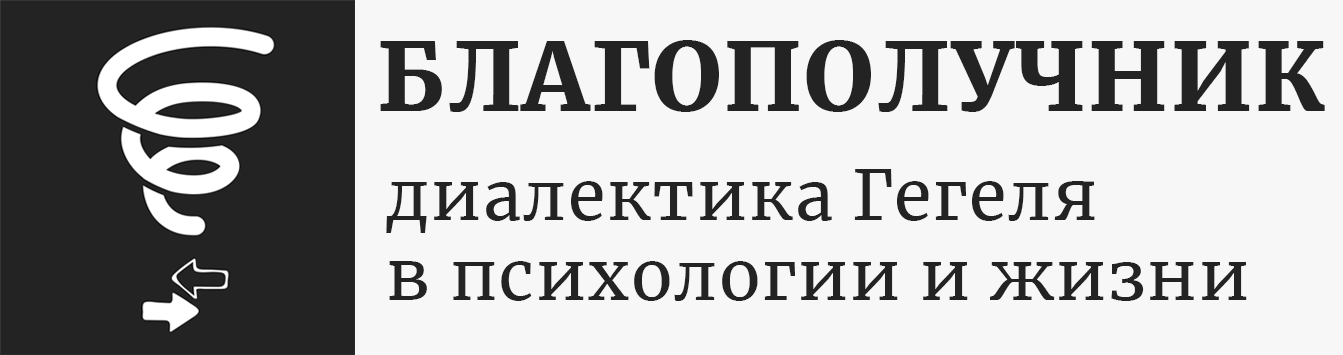Принцип Эрика Берна
Итак, проблему можно рассматривать, как своеобразную «оболочку» актуального ресурса, который в наличной ситуации пока недоступен. А решение проблемы – это приведение себя в соответствие с этим ресурсом, получение к нему доступа и его последующее усвоение.
Другими словами, проблема – это всегда приглашение к изменению, развитию (в диалектике под развитием понимается переход от простого к сложному, от низшего – к высшему).
Это не какая-то новая мысль. В.Я. Пропп в «Морфологии волшебной сказки» называет это приглашение к изменениям Бедой («Пришла Беда – отворяй ворота!»). Джозеф Кэмпбелл в «Тысячеликом герое» называет его Зовом. У К.Г. Юнга нахождение ресурса в проблеме – вообще один из основных принципов работы.
С позиции диалектики в данном конкретном случае мы рассматриваем проблему, как предел и долженствование, проявляющие себя в соответствии с определением. Можно сказать, что проблема – это привилегия определения. К примеру, не имеющий своего автомобиля человек не сталкивается с проблемой замены шин с летних на зимние. Такая проблема – привилегия автовладельца. Другими словами, проблемы (они же – задачи) возникают у тех, для кого они закономерны и, скажем больше, необходимы.
Американский психолог, отец Транзактного анализа, Эрик Берн, сформулировал принцип: «Что происходит – то и цель». Согласно этому принципу, любая происходящая с человеком проблема является его целью.
Приведу пример из жизни. В студенчестве я занимался скалолазанием. Тогда я жил в Красноярске, где расположен природный заповедник «Столбы», представляющий собой комплекс скал – лазание по ним было одним из моих увлечений. Спустя годы, я снова оказался в Красноярске и, конечно же, отправился на «Столбы». Стоя на уступе на одной из скал, я приготовился лезть дальше. До следующего уступа было метров семь, а вниз до земли метров десять – высота уже волнительная. Приняв веревку от товарища с верхнего уступа, я начал вязать на себе узел «булинь» и внезапно ощутил сильный страх. Пальцы окаменели, я тут же забыл базовый узел, тело начало трясти, захотелось вжаться в скалу и не шевелиться. Я начал делать «диалектическое позволение» – произнес фразу «Я позволяю себе бояться» и начал прислушиваться к ощущениям. Тело начало успокаиваться, пальцам вернулась подвижность, узел вспомнился так же внезапно, как и забылся. В продолжение техники я наладил контакт со страхом, выслушал его и позволил самому выбрать, чем он хочет быть. Страх выбрал быть собранностью. Наполнившись собранностью, я благополучно забрался на следующий уступ.
Как это работает мы уже знаем из предыдущих примечаний. Позволением себе бояться я вывел себя из позиции жертвы, вернул ответственность и субъектность. Этой же первой фразой вместо отталкивания страха я продолжил его импульс притяжения; второй фразой продолжил следующий за ним импульс отталкивания. Позволением себе быть любым уравновесил эти импульсы, после чего позволил страху быть тем, чем он является на самом деле – собранностью.
Теперь вернемся к принципу Эрика Берна, по которому страх – это моя цель. Помня о том, что страх захотел стать собранностью, а проблему можно представить, как «оболочку» недоступного ресурса, выходит, что страх – это и есть собранность, которая в этой ситуации не смогла до меня достучаться.
Обратившись к своему определению скалолаза, я бессознательно оценил свою собранность, как недостаточную для преодоления расстояния до следующего уступа. Была поставлена цель достигнуть необходимую меру (качество и количество) собранности, и для этого моя недостаточная собранность перешла в страх. Говоря диалектически, страх стал моим пределом. Долженствование вывело меня за этот предел и обеспечило достижение меры собранности через решение проблемы страха.
Интересно отметить, что здесь страх и собранность, как будто – одно и то же; они переходят друг в друга.
В диалектике Гегеля такие взаимные переходы называют моментами. Вот мы и подошли к интереснейшему понятию гегелевской диалектики. О моментах мы поговорим в новой заметке.